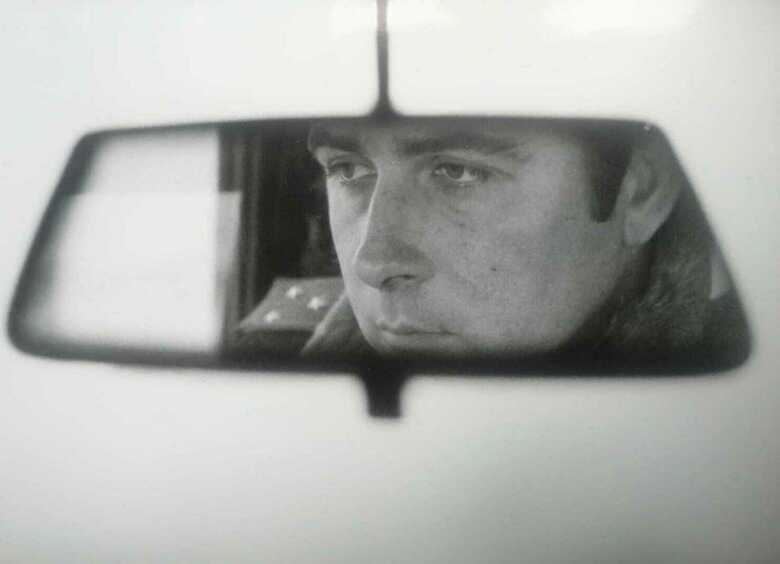Лейтмотивом выставки Сергея Яшина можно назвать процесс метаморфозы в различных его проявлениях. Это трансформация происходит на разных уровнях: временном, сюжетном, пластическом. Во-первых, сама экспозиция, расположенная в двух залах, представляет собой своеобразную ретроспективу, собрание работ из разных периодов творчества художника: от середины 1990-х годов до самых недавних, написанных в последние два года (серия «Органика»). По ним мы можем проследить динамику изменения пластического языка и выбора сюжетов (фигуративных или абстрактных) в хронологической перспективе.
Вместе с тем в фигуративных работах, наполненных культурными реминисценциями, происходят свои трансформации: сюжеты наслаиваются друг на друга, образуя новые комбинации смыслов и идей. Две главные картины, посвященные Великой французской революции, «Свобода, ведущая народ» Делакруа и «Смерть Марата» Давид, встречаются в едином пространстве, сплавляя воедино клокочущую энергию революционной борьбы и человеческие трагедии, неизбежно ее сопровождающие. «Noch ein mail», где, по задумке автора, изображены снятый с креста Иисус и кающийся Иуда, одновременно являет нам неведомо как соединившихся врубелевского демона и расстрелянного повстанца в белой рубашке с картины Гойи («Третье мая 1808 года в Мадриде»).
Такие неожиданные постмодернистские переклички возникают и между отдельными работами. Боттичеллиевская Венера и гейша с гравюр Хиросигэ или Куниёси сближаются в художественной системе Сергея Яшина, словно между ними нет четырехсотлетней разницы в возрасте и извечной культурной дихотомии Запада и Востока. То же самое можно сказать о созвучиях «Старого самурая» и «Поверженного Минотавра», возникающих за счет близкой колористической гаммы и рифмующихся дугообразных линий в композиции. В этом зале мы встречаем и подсолнухи — цветы, важные для многих художников, от Ван Гога до Кифера («Приказы ночи»), чернеющие на фоне крестовины оконной рамы.
Композиции на стыке фигуративности и абстракции — «Портрет мужчины в красном» и «Вождь» — отличает особая работа с фактурой холста. Она напоминает последствия воздействия некой химической субстанции, словно кислота разъела красочный слой и оставила оплавленные массы. Подобную работу с фактурой, но уже полностью в абстрактной композиции мы видим в «Ситуации №2». В ней она усиливается многослойным наложением цвета, дающего сложность и глубину поверхности, а также техникой граттажа (процарапывания) отдельных участков холста.
Своеобразным мостиком, связующим звеном между двумя залами являются работы «Око» и «Экскалибур» из серии «Нерасшифрованное». В них появляются предвестники той биоморфной структуры, которая лежит в основе серии «Органика», но при этом колористически они ближе традиционной серо-черно-бордовой гамме Сергея Яшина (наверняка он пристально изучал Э. Мане, особенно «Флейтиста»). Однако бордовый здесь превращается скорее в индустриальную ржавчину. Художнику достаточно точно удается передать сложную фактуру состаренного металлического листа, поверх которого с потеками и набрызгами краски нанесены некие объекты-символы.
Наконец, серия «Органика», которой посвящен отдельный зал. В этих работах совершаются метаморфозы самой материи. Вспомним «Метаморфозы» Овидия: «Всё еще было в борьбе, затем что в массе единой / Холод сражался с теплом, сражалась с влажностью сухость, / Битву с весомым вело невесомое, твердое с мягким». Это абстрактные каменистые структуры, напоминающие то ли окаменевшие аммониты, то ли останки какой-то античной посуды. Они парят на нейтральном светло-сером фоне, как в первозданной пустоте. Их застывшая оболочка инертна, но внутри них словно протекает какая-то бурная жизнь, готовая вырваться наружу.Что будет дальше?