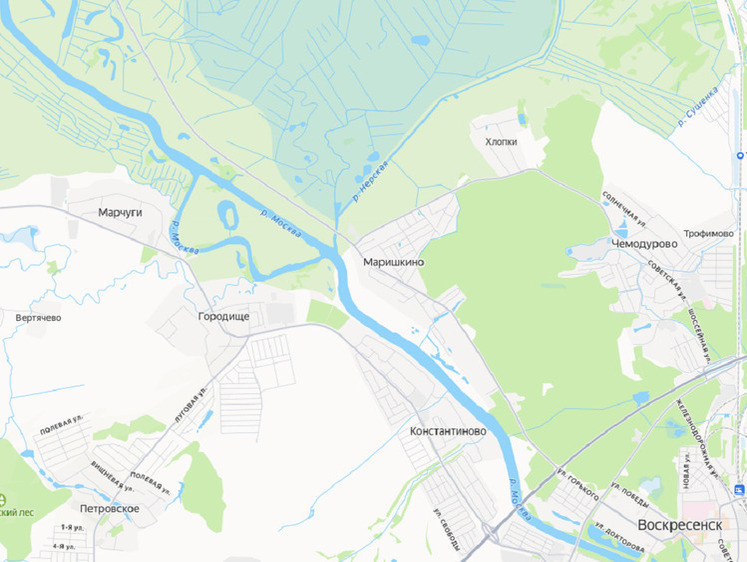....В 1941 году мне исполнилось 14 лет. Хорошо помню день, когда мы услышали о начале войны. Он был прекрасный и солнечный. Мы с моей подружкой детства Лилей шли по Красной. Настроение было летнее. Школьные экзамены сданы, впереди ждут каникулы, планы самые радужные…
И вдруг из репродуктора (тогда они были установлены на уличных столбах) стали передавать речь Вячеслава Молотова о нападении Германии на Советский Союз. Воспитанные на фильмах о трех танкистах и песнях с общей темой «наша армия всех сильней», всерьез это сообщение никто из нас не воспринял. Еще свежи были в памяти победы в финской войне, на Халхин-Голе: да мы немцев шапками закидаем!
Безоблачная жизнь продолжалась. Потому мы очень удивились, когда в городе появились беженцы. Такого слова мы тогда не знали. Помню, увидела впервые женщину с детской коляской, доверху заполненной всяким скарбом, а рядом — топающего малыша, совсем кроху. Потом их было все больше, некоторые оставались в городе, но большинство шло и ехало дальше, хотя наш город был пока далек от фронта и приближения его никто не ждал.
Помню, провожали старшего брата моей подруги — Сашу. Молодого, только окончившего школу — 10 классов — в армию. На призывном пункте было весело: играл гармонист, песни, танцы, безгорестное прощание. Но… Саша, молодой красивый парень, домой не вернулся. Семья не получила от него ни единой весточки. Из всего их многочисленного класса возвратился только один, и тот инвалидом — без ноги.
Вести с фронта становились все тяжелее. По Краснодару объявили добровольный призыв на помощь колхозам — молодежь ушла на фронт. Наши уже не работающие бабушки не могли не помочь и вместе с соседями и своими внуками поехали в колхоз, где проработали бесплатно до конца осени.
«Среди нас всякие есть»
А потом пришла зима — холодная, морозная, голодная — первая военная зима. Положение на фронте не радовало, снабжение становилось все хуже, жизнь тоже. Но еще была надежда, что скоро все изменится к лучшему. Надежда не оправдалась, чувствовалось приближение фронта. Началась массовая эвакуация. Наши соседи где-то раздобыли телегу с лошадью, погрузили нас на нее и тоже ударились в бега, но неудачно: уже был взорван мост, переправиться через Кубань не смогли и, помыкавшись, вернулись домой.
В городе уже были взорваны или разбомблены многие здания и объекты, в том числе и нефтезавод. Дым, гарь доходила до нашего двора, находившегося на порядочном от него расстоянии. Были брошены продовольственные склады и магазины, население начало запасаться оставленными продуктами, что помогло в первое время пережить голод. Рядом с нами находился небольшой цех, производящий молочную продукцию. Живущие по соседству (и мы в том числе) «отоварились» сыром, кто-то принес с жиркомбината подсолнечное масло… Все это поделили между соседями. Двор был большой, было много детей, на них выделялось больше.
Время шло. Летом, в августе, наши войска после ожесточенных боев покинули город, а мы — бабушка, тетя и я — взобравшись на печку, стали ждать своей судьбы. Помню, бабушка молилась…
Немецкие войска вошли, а точнее, въехали в город на машинах и танках. Пеших солдат не было.
Нас, молодых девушек, одели в какое-то рванье и отправили в чей-то частный дом у Кубани, где мы просидели три дня в вырытом окопе. Взрослые все спустились в подвал и заперлись там (какая наивность!..). Но нашему двору повезло. В нем недавно был построен двухэтажный дом (Краснодар был в то время в основном одноэтажным) — для работников обкома или крайкома (не помню точно). В нем было пять пустующих квартир, так как владельцы эвакуировались (тоже неудачно — впоследствии им тоже, как и нам, пришлось вернуться). И вот этот дом облюбовали немцы. В нем разместили, наверное, штаб — не знаю точно, генерал занимал весь второй этаж, и его команда была не из рядовых солдат.
Как ни странно, это спасло нас от многих бед. В первые дни во двор зашли, наверное, гестаповцы — с черными бляхами на груди — и направились к подвалу, где укрывались жильцы и несколько раненых советских солдат. Но тут генеральская служба с ними о чем-то поговорила, после чего они развернулись и ушли. Кроме того, крохи с генеральского стола доставались детям: с ними делились тем, что недоели. Особенно немцы любили блины, по их распоряжению наши женщины пекли их буквально ведрами — фашисты давали муку и молоко, и кое-что нам перепадало.
Самое главное: наш двор был через дорогу от военного госпиталя (наш адрес тогда был ул. Кирова, 7). Там многие женщины работали, а при приближении к городу немцев они тех тяжелораненых советских солдат, которые не смогли эвакуироваться, перетащили к нам во двор и спрятали у себя. Конечно, скрыть это было невозможно, немцы об этом знали, но почему-то смотрели сквозь пальцы до одного случая, о котором сейчас расскажу.
Как-то один начавший выздоравливать молодой моряк вышел из дому и подошел к группе немцев, которые сидели вокруг костра и играли на губных гармошках. Он начал крыть их ругательствами на чем свет стоит. А среди немцев были и знающие нашу речь — один жил в Советском Союзе еще до войны, он сам об этом рассказывал. Немцы связали моряка и… отнесли его «домой», в ту квартиру, где его прятала сотрудница госпиталя, строго предупредив, чтобы «до утра этого героя тут не было». «Среди нас всякие есть», — сказали они в заключение. Женщина так и сделала — проводила моряка куда подальше, в другое безопасное место.
Эти немцы прожили в нашем дворе недолго, а когда они ушли, появились румыны и разворовали все, что попалось под руку.
«Новый порядок»: голод, холод, казни
Как мы жили в оккупации и что нам пришлось пережить — сейчас в это верится с трудом: голод, холод, нищета и постоянный страх. Это заставляло объединяться: у людей появились коллективные тачки, крупомолки для кукурузы. Собирались две-три семьи и отправлялись по станицам для обмена сохранившихся ценностей: одежды, обуви — на продукты питания. Походы были многокилометровые, зимой, по снегу, грязи, в любую непогоду. Если повезет, приносили кое-что из продуктов, в основном кукурузу, которую мололи вручную, а потом старались растянуть это лакомство подольше. Про соль, масло забыли. Норма на троих — бабушку, тетю и меня — пол-литровая баночка кукурузной крупы, из которой лепили «липеники», подсушивая их на плите и растягивая порцию на день.
Однажды мы с подругой, ее сестрой и моей 24-летней тетей месили грязь у какой-то станицы и вдруг за околицей увидали живую курицу. Охота за ней была азартная: мы все в грязи, но счастливые (вместе с пойманной курицей!) попросились на ночлег в какую-то хату. А тогда народ был отзывчивый, всегда пускали в дом. Хозяйка добавила репу, развели костер и стали варить эту репу вместе с курицей. Доварить не смогли — ели полусырую, но все равно это было такое счастье!
Оккупация… какое страшное слово! Вначале всех регистрировали. У нас по соседству жила еврейская семья, очень хорошие, интеллигентные люди. Она музыкант, помогала мне продолжить музыкальное образование бесплатно! А после регистрации их не стало, так жаль…
А сколько повешенных было в городе! Про душегубки, которые колесили по улицам Краснодара, мы узнали позже — на показательном суде над изменниками Родины, который проводился в бывшем кинотеатре «Кубань». Билеты на него распространялись по организациям, так как было очень много желающих попасть на такие суды. Нам их иногда приносила тетя, работавшая на консервном заводе.
В моем классе учились два брата-близнеца, Толя и Володя Марченко. Заводилы, веселые, хорошие хлопцы. Потом мы узнали от соседей, что их взяли немцы — они были связными в партизанском отряде. Так ли это было на самом деле — не знаю, но больше мы их никогда не встречали…
Нам с подругой тоже хотелось как-то поучаствовать в сопротивлении оккупантам, и мы не придумали ничего лучшего как посрывать фотографии немцев, которые висели у парикмахерской на углу Красной и Комсомольской… Поздно вечером, несмотря на комендантский час, посрывали эти фотографии и бегом домой, а потом не знали, как эти несчастные фотографии уничтожить, чтобы не осталось никаких следов. Мы их порвали на мелкие кусочки и закопали за нашим домом…
До сих пор вспоминаю со слезами, как по улице Мира вели пленных наших солдатиков в окружении немецкой охраны. Они были измучены, оборваны, многие еле-еле шли. На улице стояло много женщин — причем неизвестно, как они узнали, что пленных будут вести. Кто-то из женщин пытался передать пленным еду, кто-то выкрикивал фамилии своих родных, чтобы узнать, не встречались ли они на фронте. Многие плакали — ведь у каждой из них на фронте был близкий, о многих из них не было ничего известно.
Быт во время оккупации был тяжелым. Голод, холод… Большую печь в доме топили редко и мало, когда было чем, собственно, топить. Все, что могло гореть, уже было сожжено. Поэтому у каждого в доме был самодельный «каганец» — в плошке с маслом (которое появлялось достаточно редко) горел фитилек, который зажигали тоже в крайнем случае. Выходили из дома лишь по крайней необходимости, но обычно соседи — жители большого двора, каких было много в тогдашнем Краснодаре, — жили дружно, помогали друг другу кто чем.
Самое страшное в то время — отсутствие абсолютно всякой информации о ситуации на фронте, мы не знали, что нас ждет.
Лепешки для освободителей
Радость, которую испытали при вступлении нашей армии в город, непередаваема. Она сравнима только с Днем Победы. Хотя немцы и спешно покидали город, по ситуации было заметно, что они уйдут, поэтому мы готовились заранее: из жалких остатков муки с отрубями испекли лепешки и пошли встречать наших. Солдатики шли уставшие от боев, пешком. Машин я не видела. Наши лепешки разошлись мигом, а нашей радости не было предела. Люди смеялись, плакали, целовали всех подряд…
Лишь один эпизод омрачил этот светлый день: при отступлении оккупантов было взорвано здание, где располагалось гестапо — оно и сейчас стоит на углу улиц Седина и Орджоникидзе. Горели подвалы, в которых находились арестованные фашистами наши коммунисты, партизаны, советские люди. Картина была ужасной — много крови, растерзанные трупы… Очень много было повешенных на улицах города. И вот под впечатлением этого ужасного зрелища, помня, что довелось пережить в оккупированном городе, жителям удалось задержать одного немчика — молодого, совсем мальчишку. Люди его чуть не растерзали, а красноармейцы его вытащили из толпы и за углом расстреляли, а мне все-таки было его жалко. Конечно, я помню наших молодых ребят, погибших в этой ужасной мясорубке! Сколько горя, слез, поломанных судеб перенес наш многострадальный народ!
Пусть Бог никогда не простит тех, кто начинает войны, принося столько горя ни в чем не повинным людям! И пусть теперешняя молодежь знает и никогда не забывает о войне, известной им по рассказам, книгам и кинохроникам.
СПРАВКА "МК":
12 февраля 1943 года советские войска освободили столицу Кубани — город Краснодар.
Чуть более шести месяцев длилась оккупация фашистами Краснодара. С 9 августа 1942 по 12 февраля 1943 года казачий город находился в руках врага. Эти дни стали самыми страшными за всю историю города. Гитлеровцы установили здесь, как и везде, куда приходили, свой «порядок».
С первых дней оккупации фашисты приступили к организации административных органов: военного управления, комендатуры, жандармерии и гражданского самоуправления. Были созданы главная городская и четыре подчиненные ей управы.
Уничтожение горожан немцы начали с евреев (вылавливать их, впрочем, продолжали весь период оккупации) и с пациентов больниц. Жесточайшие репрессии обрушились и на цыган.
С октября 1942 года фашистский террор ужесточился. Гитлеровцы врывались в квартиры, регулярно проводились облавы. Чаще всего захват людей проходил на рынках, когда всю территорию оцепляли и людей вывозили на расстрел либо сажали морить в душегубки. 16 января 1943 года под видом выявления не зарегистрировавшихся на немецкой бирже труда была проведена массовая облава, единовременно было захвачено около 800 человек.
О трагической судьбе военнопленных известно очень мало. На территории нынешнего стадиона «Динамо» размещался лагерь военнопленных № 162, в котором содержалось около 10 тысяч советских солдат. Были лагеря в районе аэродрома, на территориях бывшего завода имени Калинина, мясокомбината. Большое количество военнопленных содержалось в районе нынешнего стадиона «Труд».
В начале февраля 1943 года советские войска начали Краснодарскую наступательную операцию. В день бегства немцы подожгли здание гестапо (по сей день сохранившееся на углу улиц Седина и Орджоникидзе) вместе с заключенными в нем людьми. Воины-освободители, первыми вошедшие в Краснодар, застали раскачивающиеся на столбах трупы «неблагонадежных» жителей Краснодара, повешенных гитлеровскими захватчиками…